Взаимоотношения между писателями непременно сложны и давно стали притчей во языцех. Это, по выражению Гребенщикова, «поэты торчат на чужих номерах, но сами давно звонят лишь друг другу, обсуждая, насколько прекрасен наш круг». Писатели более замкнуты и склонны к уединению вплоть до затворничества. Но от обсуждения друг друга – как правило, заочного и зачастую нелицеприятного – отнюдь не отказываются. В конце концов, имеет ведь Достоевский право высказать своё мнение о том или ином писателе? Разумеется, имеет, что он и делает не только в публицистических заметках, но и прямо в художественных произведениях. Правда, прямых указаний мы в них вряд ли найдём, однако критики и исследователи давно всё нашли до нас.
Тургенев
 Острого обсуждения в романах Фёдора Михайловича удостоился Тургенев. Последний в произведениях Достоевского выступает едва ли не как сегодня Никас Сафронов в среде художников: мастерство, безусловно, есть, но пафос и самомнение зашкаливают до неприличия, равно как и ценники за заказы. Примечательно, что героиня романа «Дворянское гнездо» Варвара Павловна Лаврецкая, увлекавшаяся французскими романами, всем прочим писателям предпочитала Поль де Кока. А мы помним, как к нему относится Достоевский.
Острого обсуждения в романах Фёдора Михайловича удостоился Тургенев. Последний в произведениях Достоевского выступает едва ли не как сегодня Никас Сафронов в среде художников: мастерство, безусловно, есть, но пафос и самомнение зашкаливают до неприличия, равно как и ценники за заказы. Примечательно, что героиня романа «Дворянское гнездо» Варвара Павловна Лаврецкая, увлекавшаяся французскими романами, всем прочим писателям предпочитала Поль де Кока. А мы помним, как к нему относится Достоевский.
Но всё это только «наводки», а вот если и не прямые указания, то, по крайней мере, весьма прозрачные намёки. В «Бесах» Достоевский приводит пассаж о «великих писателях»:
«Как многие из наших великих писателей (а у нас очень много великих писателей), он не выдерживал похвал и тотчас же начинал слабеть, несмотря на своё остроумие. Но я думаю, что это простительно. Говорят, один из наших Шекспиров прямо так и брякнул в частном разговоре, что «дескать, нам, великим людям, иначе и нельзя» и т. д., да ещё и не заметил того» (8, 438).
В комментарии (8, 461) к данному фрагменту поясняется, что речь идёт о том, как Тургенев приснился Некрасову: «Намёк на Тургенева, который опубликовал в «Северной пчеле» (1862, 10 декабря) личное письмо к нему Некрасова, писавшего, что «в последнее время несколько ночей» Тургенев ему «снился во сне». На этот инцидент откликнулся Салтыков-Щедрин в анонимной заметке «Литературная подпись» («Современник», 1863, № 1 – 2), упомянув о случае, когда «один литератор печатно заявил, что он «так велик, что его даже во сне видит другой литератор»»» (8, 461).
Да, писательская тусовка во все времена является известным террариумом. Но тем и интересны возникающие «диспуты» и заочные выяснения отношений, что добавляют в них соли. Отчего спустя поколения эпоха ощущается «смачной» и живой. Недаром настоящий опус называется «Живой Достоевский», ведь он жив во всех своих проявлениях, в том числе во взаимоотношении с другими представителями писательского цеха.
Чехов
 В рамках исследования невозможно сколько бы то ни было полно осветить взаимовлияние Достоевского и других писателей. Да и я не специалист, чтобы рассуждать о подобных вещах. Однако некоторые моменты буквально бросаются в глаза. И тот факт, что они носят подчас фрагментарный характер, напротив, только подчёркивает, как хорошо писатели были знакомы с произведениями друг друга. В некотором роде это продолжение вышеназванной темы «я возьму своё там, где я увижу своё».
В рамках исследования невозможно сколько бы то ни было полно осветить взаимовлияние Достоевского и других писателей. Да и я не специалист, чтобы рассуждать о подобных вещах. Однако некоторые моменты буквально бросаются в глаза. И тот факт, что они носят подчас фрагментарный характер, напротив, только подчёркивает, как хорошо писатели были знакомы с произведениями друг друга. В некотором роде это продолжение вышеназванной темы «я возьму своё там, где я увижу своё».
В случае с Чеховым просто невозможно не вспомнить историю с лошадиной фамилией. Да, «Овсов», многие её прекрасно помнят. Но речь в данном случае о том, что у Достоевского содержится практически заготовка для чеховского рассказа, которую Антону Павловичу осталось лишь наполнить и оживить конкретным содержанием.
В рассказе Фёдора Михайловича «Вечный муж» о главном герое Вельчанинове сообщается: «И что-то как будто начинало шевелиться в его воспоминаниях, или какое-нибудь известное, но вдруг почему-то забытое слово, которое из всех сил стараешься припомнить; знаешь его очень хорошо – и знаешь про то, что знаешь его; знаешь, что именно оно означает, около того ходишь; но вот никак не хочет слово припомниться, как ни бейся над ним!» (12, 325).
Лично мне как-то автоматически вспоминается чеховская лошадиная фамилия. И ведь учёные уже установили, в чём повинны синапсы и нейромедиаторы в подобных ситуациях, а живые примеры всегда, как своя рубашка, ближе к телу.
Пушкин
 Логично и закономерно было бы поместить Александра Сергеевича в самое начало списка, но уж слишком прямолинейным оказался переход от Поль де Кока к Тургеневу. Они как в пазы мозаики вошли, настолько рядомположенными оказались в восприятии Достоевского.
Логично и закономерно было бы поместить Александра Сергеевича в самое начало списка, но уж слишком прямолинейным оказался переход от Поль де Кока к Тургеневу. Они как в пазы мозаики вошли, настолько рядомположенными оказались в восприятии Достоевского.
Что касается Пушкина, который, как известно, «наше всё», то он уже во время Фёдора Михайловича выступал именно в этой роли. Достоевский никогда не скрывал своего восхищения Пушкиным, причём видел в нём не только гениального поэта, но и глубочайшего мыслителя. 8 июня (по старому стилю) 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности Достоевский даже выступил со специальной «Речью о Пушкине», которая была опубликована 1 августа в «Дневнике писателя».
В своей речи Фёдор Михайлович провёл тезис о том, что Пушкин не есть только русский гений – его талант есть явление универсальное, всемирное. В нём выразилось преодоление национальных литературных традиций и, как следствие, – разговор на всех языках культуры: стихи об английской жизни словно бы взяты из английских средневековых песен и зарисовок, в кавказских фрагментах звучит настоящий горец, в стихах о Балканах слышны песни родственных славянских народов.
В Пушкине Достоевский видел поэта целого мира. Да, он гордость России! Но при этом он столь глубоко проник в мироощущение и традиции других народов, что его стихи понятны всем без исключения. И в этом смысле Пушкин и есть всемирный поэт.
В «Речи о Пушкине» поражает глубина проникновения Достоевского в произведения Александра Сергеевича. Он прослеживает внутреннее развитие его героев, их мотивы, вскрывает их суть. Чего стоит потрясающее по глубине наблюдательности замечание о «Евгении Онегине»: «Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины, и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным».
Так что были бы Пушкин и Достоевский чуть большими современниками, мы бы вполне могли изучать знаменитый роман в стихах «Татьяна Ларина».
Сологуб
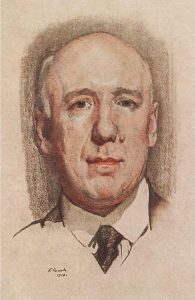 В своё время на меня чрезвычайно сильное впечатление произвёл роман «Мелкий бес» Фёдора Сологуба. Параллель с «Бесами» напрашивается сама собой, только у последнего бесовщина мелкая, провинциальная. Однако и сумасшествие, и поджоги, и убийства – всё это есть у обоих Фёдоров. Впрочем, читая «Мелкого беса» впервые, на многие детали я не обращал внимания. Как вдруг они начали вспыхивать в памяти, когда я вновь принялся за «Бесов» в рамках своего марафона чтения Достоевского.
В своё время на меня чрезвычайно сильное впечатление произвёл роман «Мелкий бес» Фёдора Сологуба. Параллель с «Бесами» напрашивается сама собой, только у последнего бесовщина мелкая, провинциальная. Однако и сумасшествие, и поджоги, и убийства – всё это есть у обоих Фёдоров. Впрочем, читая «Мелкого беса» впервые, на многие детали я не обращал внимания. Как вдруг они начали вспыхивать в памяти, когда я вновь принялся за «Бесов» в рамках своего марафона чтения Достоевского.
Помнится, я долго не мог осознать некоторые понятия в тексте Сологуба. Недотыкомки, фалалеи – в комментариях к роману всё это объяснялось некими диковинными диалектизмами, почти что провинциализмами. Достоевский, мне кажется, на такие пояснения отреагировал бы словами своего героя: «Провинциал уже по натуре своей, кажется, должен бы быть психологом и сердцеведом. Вот почему я иногда искренно удивлялся, весьма часто встречая в провинции вместо психологов и сердцеведов чрезвычайно много ослов» (2, 57). Впрочем, речь не о провинции, и тем более никого не хочется оскорблять – может быть, так, к слову пришлось.
По существу же я хотел сказать о том, что именно у Достоевского встречается самый настоящий Фалалей. И пишется он совершенно правильно с заглавной буквы, поскольку это его имя – это трагикомический персонаж из «Села Степанчикова и его обитателей». У Фёдора Михайловича он отрисован слабоумным дворовым, над которым многие потешаются по причине различных нелепых ситуаций, в которые он попадает. У Сологуба, в соответствии с «мелкостью» бесовщины, он опускается до прописной – фалалей. В значении: шут, паяц, добровольный юродивый.
Интересно в скобках заметить, что главного героя в экранизации «Мелкого беса» и брата Достоевского Михаила Михайловича в минисериале «Достоевский» сыграл один и тот же актёр – Сергей Тарамаев.
Венедикт Ерофеев
 Удивительным образом Фалалей из «Села Степанчикова» пересекается также с ироничным персонажем из поэмы Венечки Ерофеева «Москва – Петушки». Помнится, в вагоне у него ехал дядя Митрич со слабоумным племянником, который прыскал слюной по диагонали от подбородка к лопатке с трещиной через весь подстаканник, ну или как-то так, в соответствии со сложившимися в русской литературе канонами абсурдизма.
Удивительным образом Фалалей из «Села Степанчикова» пересекается также с ироничным персонажем из поэмы Венечки Ерофеева «Москва – Петушки». Помнится, в вагоне у него ехал дядя Митрич со слабоумным племянником, который прыскал слюной по диагонали от подбородка к лопатке с трещиной через весь подстаканник, ну или как-то так, в соответствии со сложившимися в русской литературе канонами абсурдизма.
Предположу, что и Ерофеев, наравне с Сологубом, черпал вдохновение в произведениях Достоевского, а ведь между ними не менее полувека времени. И если моя гипотеза верна, то к Достоевскому, как к источнику, припадает не одно поколение как читателей, так и писателей. Некоторые из них «берут своё там, где находят своё» настолько активно, что кажется, будто они первые изобретатели того или иного афоризма.
Горький
 «Человек создан для счастья, как птица для полёта» – это аксиома известна со школьной скамьи. По крайней мере, советской, не уверен, проходят ли Горького в современной школе. Сегодня больше в ходу схожие высказывания далай-ламы: цель человеческой жизни – в счастье. (На практике данная идея нашла отражение в Саудовской Аравии, где в нынешнем году создали – ни больше ни меньше – министерство счастья). Но подобная формулировка, даже с пояснениями, встречается в «Братьях Карамазовых».
«Человек создан для счастья, как птица для полёта» – это аксиома известна со школьной скамьи. По крайней мере, советской, не уверен, проходят ли Горького в современной школе. Сегодня больше в ходу схожие высказывания далай-ламы: цель человеческой жизни – в счастье. (На практике данная идея нашла отражение в Саудовской Аравии, где в нынешнем году создали – ни больше ни меньше – министерство счастья). Но подобная формулировка, даже с пояснениями, встречается в «Братьях Карамазовых».
В уста старца Зосимы Достоевский вложил следующие проникновенные слова: «Ибо для счастия созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Все праведные, все святые мученики были все счастливы» (11, 64). Так что именно Фёдору Михайловичу принадлежит формулировка этого, можно сказать, универсального закона человеческого бытия. А ещё отлично заметно влияние Достоевского… на Акунина!
Акунин
 Казалось бы, Акунин, современный мастер слова, чужд пространных предложений Достоевского. Чхартишвили под японским прикрытием выражается на отточенном, более свойственном сегодняшней публицистике языке. Его фразы хлёстки и лаконичны. С годами Григорий Шалвович едва ли не в совершенстве освоил принципы построения сюжета. Каждая его книга – образец драматического произведения, в котором остановиться в конце главы очень сложно – хочется сразу же начать новую. Основанные на богатом фактическом материале, все его романы содержательны, увлекательны и поучительны ровно в той мере, чтобы не пересекать границу морализаторства.
Казалось бы, Акунин, современный мастер слова, чужд пространных предложений Достоевского. Чхартишвили под японским прикрытием выражается на отточенном, более свойственном сегодняшней публицистике языке. Его фразы хлёстки и лаконичны. С годами Григорий Шалвович едва ли не в совершенстве освоил принципы построения сюжета. Каждая его книга – образец драматического произведения, в котором остановиться в конце главы очень сложно – хочется сразу же начать новую. Основанные на богатом фактическом материале, все его романы содержательны, увлекательны и поучительны ровно в той мере, чтобы не пересекать границу морализаторства.
Лично я, читая двенадцатитомник Достоевского, набросал список книг, которые хотел бы прочесть после окончания своеобразной «миссии». Среди «вставших» в очередь Гёте, Приста, Хеллера, Перека, конечно же, числился и Акунин. Приключения Фандорина я дочитал до «Чёрного города» и в ожидании новой книги принялся за «Смерть на брудершафт». Но в процессе чтения Достоевского я бы ни за что не поверил, что Фёдор Михайлович повлиял на Акунина, пока не дошёл до «Братьев Карамазовых». Чтобы не быть пустословным, приведу отрывок из «мальчишеской» линии романа, в котором обсуждается возможность подмены потерявшейся собаки на другую, очень похожую:
«– Ах, нельзя ли бы так, – приостановился вдруг Смуров, – ведь Илюша говорит, что Жучка тоже была лохматая и тоже такая же седая, дымчатая, как и Перезвон, – нельзя ли сказать, что это та самая Жучка и есть, он может быть и поверит?
– Школьник, гнушайся лжи, это раз; даже для доброго дела, два» (12, 18).
Слышите? Да ведь это же чистый Эраст Петрович: гнушайся лжи, это р-раз; даже для д-доброго дела, два. Только без заиканий. Прочтя приведённый отрывок, я даже заметку сформулировал как «акунинский стиль “Братьев Карамазовых”», хотя, конечно, такое возможно лишь в обратной перспективе.
Да, Борис Акунин перенял многие стилистические решения от Достоевского, это чувствуется особенно ярко после прочтения «Братьев Карамазовых». И дело здесь не в одной только стилизации, а в живом последовании от зерна к зерну, в котором ростком выступает литературный плод. Здоровая преемственность – это то, что так радует, поскольку подтверждает здоровое национальное единство в веках.
Конечно, слабая начитанность и скудость познаний не позволяют мне проследить влияние классика на других авторов. Но важнее то, что раз уж Достоевский, как источник, питает многих писателей после себя вплоть до настоящего времени, то как же иначе можно сказать о Фёдоре Михайловиче, кроме как что он действительно живой! Достоевский и сам отдавал себе ясный отчёт, что истинная жизнь кроется в чём-то неуловимом, но что обязательно преодолевает и превосходит все идеи и концепции, которые мы можем выстроить о живой жизни.