В романах Достоевского можно встретить дословно словосочетание «живая жизнь». Если не знать, что это, помимо прочего, термин, характерный для ряда религиозно-философских течений, то можно принять такое словоупотребление за тавтологию. Однако для Достоевского «живая жизнь» – это неотъемлемая часть его художественного и мировоззренческого глоссария.
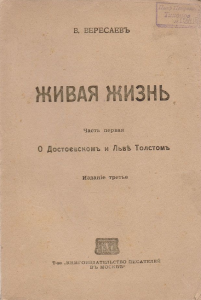 В романе «Подросток» Версилов в диалоге с князем пытается определить рамки термина «живая жизнь». Он начинает с уточнения другого словосочетания, которое также часто использует, – «великая мысль»:
В романе «Подросток» Версилов в диалоге с князем пытается определить рамки термина «живая жизнь». Он начинает с уточнения другого словосочетания, которое также часто использует, – «великая мысль»:
«Великая мысль – это чаще всего чувство, которое слишком иногда подолгу остаётся без определения. Знаю только, что это всегда было то, из чего истекала живая жизнь, то есть не умственная и не сочинённая, а, напротив, нескучная и весёлая; так что высшая идея, из которой она истекает, решительно необходима, к всеобщей досаде разумеется.
– Почему к досаде?
– Потому, что жить с идеями скучно, а без идей всегда весело.
Князь съел пилюлю.
– А что же такое эта живая жизнь, по-вашему? (Он видимо злился).
– Тоже не знаю, князь; знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая» (10, 25).
Ко времени Достоевского понятие «живая жизнь» уже было распространено как в публицистике, так и в литературе. Данный термин часто встречается у славянофилов: А. С. Хомякова, Ю. С. Самарина, И. В. Киреевского. Тургенев и Герцен также апеллировали к «живой жизни», которые все, в целом, употребляли это словосочетание в значении, противоположном кабинетному академизму, книжному, теоретическому и абстрактному подходу к действительности.
Сам Достоевский употребляет термин «живая жизнь» гораздо раньше «Подростка», ещё в первых своих произведениях. Герой «Записок из подполья» признаётся в отрыве от «живой жизни» в связи с нравственной тиранией в отношении девушки, которая его любит: «Я уж до того успел растлить себя нравственно, до того от «живой жизни» отвык, что давеча вздумал попрекать и стыдить её тем, что она пришла ко мне «жалкие слова» слушать; а и не догадался сам, что она пришла… чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается всё воскресение» (2, 500).
Гордое упоение собственной идеей для героя «Записок из подполья» означает в то же время поражение перед «живой жизнью». В схожих настроениях признаётся Шатов в «Бесах»:
«– Marie, Marie, – в умилении обратился к ней Шатов, – о Marie! Если б ты знала, сколько в эти три года прошло и проехало! Я слышал потом, что ты будто бы презирала меня за перемену убеждений. Кого ж я бросил? Врагов живой жизни; устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины!» (9, 118 – 119).
Таким образом, для Достоевского человек, оторванный от живой жизни, существует в замкнутой сфере абстрактных идей, книжный теоретик, который «жив» чисто номинально. Потому и приходится прибавлять «живая», чтобы было понятно, что речь идёт о жизни не сосредоточенной в рефлексиях и абстракциях, а о самой что ни на есть действительной жизни, которая «дышит, где хочет».
Лично для меня чрезвычайно близки позиции Достоевского и Гребенщикова. Борис Борисович тоже всегда говорит о неуловимом начале жизни, о том, что невозможно потрогать, иначе оно моментально мертвеет. Скорее всего, я нахожу соответствия в тех сферах, где обитаю мыслями чаще всего, и в этом плане оторван от живой жизни. Но ведь возможно, что я и прав отчасти, объединяя писателя и музыканта. В конце концов они оба учат тому, что начинается там, где заканчиваются слова. А всякому ученику нужна сначала пища удобоваримая, молочная, как младенцу. Поэтому нет ничего зазорного постигать жизнь сперва словами. Когда же чувства, сердце натренируется, тогда можно будет постигать живую жизнь непосредственно…