«Надрыв». Это слово из художественного лексикона Достоевского оказалось настоль характерным, что даже в другие языки перекочевало в исходной форме, например, “Nadryw” в немецком. Фёдор Михайлович – общепризнанный поэт человеческих страданий, переходящих за грань человеческого. «Страдание – да ведь это единственная причина сознания» (2, 427) – прямо заявляет писатель. Причём в его романах это страдание не только «естественное», как, например, тяготящая нужда или сиротство в ранних произведениях, но и, если можно так выразиться, «надуманное», «необязательное».
Достаточно рассмотреть патологию князя Мышкина – ну что ему Настасья Филипповна! Даже что ему Аглая! Нашёл бы себе работящую скромницу, из тех же «Униженных и оскорблённых», и зажили бы, с его-то капиталом. Но нет – Лев Николаевич ничего не может с собой поделать и страдает вместе и иногда даже вместо Настасьи Филипповны. Данная реконструкция, конечно, несёт в себе упрощение, приближающееся к утрированности. Так по-менторски отец отговаривает дочь от отношений со взбалмошным молодым человеком без царя в голове. Но тем Достоевский и интересен, что сердце у него всегда заставляет замолчать голову. И вместо того чтобы наслаждаться «зоной комфорта», накупить и сдавать офисные здания и по месяцам жить в личном особняке в Швейцарии – князь до конца сопроходит крестный путь Настасьи Филипповны, вплоть до её гроба.

Тезис о доминанте сердца над разумом, вплоть до полного поражения воли, красной нитью проходит практически через все произведения Достоевского. Разрывающийся между Катериной и Грушенькой Митя Карамазов – наиболее яркий пример того, как чувства могут завладевать человеком безраздельно, вплоть до трагического финала. И даже если бы не было следствия или если Митю оправдали – читатель всё равно понимает, что он вскоре погубил бы себя сам, каким-нибудь ещё способом.
«Рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, – заключает герой «Записок из подполья», – но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком и со всеми почёсываниями» (2, 421). Сознательно просторечные «почёсывания» Достоевский употребил для того, чтобы показать, насколько душевные переживания человека инстинктивны, вложены в нас неотвратимой природой, как они руководят нами в жизни.
Рассудок и «живая жизнь» – герои Достоевского оказываются между двумя этими огнями. И одни и те же действия могут быть кардинально разными в зависимости от мотивации их совершения. «Но вот что я наверно могу сказать, – признаётся один из персонажей классика: – я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы» (2, 501). Для Фёдора Михайловича это важное уточнение: совершить жестокий поступок от дурной головы – простительнее, чем от жестокости сердца.
Попутно Достоевский формулирует многие закономерности душевной жизни такого сложного существа, как человек. Например: «Человек только своё горе любит считать, а счастья своего не считает. А счёл бы как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено» (2, 475). И даже даёт зачастую парадоксальные, но афористические определения: «Я даже думаю, что самое лучшее определение человека – это: существо на двух ногах и неблагодарное» (2, 422).
Вероятно, я выражу весьма очевидную мысль, что сочинения Достоевского популярны по той же причине, почему популярны фильмы с острым, закрученным сюжетом и элементами приключений и боевиков. Фёдор Михайлович для своих произведений выбирает необычных героев в нетривиальных условиях. Но он «снимает» не экшн, а утончённую драму. В жизни мы нечасто сталкиваемся с персонажами типа Смердякова, или Свидригайлова, или Рогожина. Все они отнюдь не рядовы, даже уникальны.
И в то же время у Достоевского мы встречаем чрезвычайно распространённые типы, которые по разным причинам не попадают в фокус нашего повседневного внимания. Фома Фомич из «Села Степанчикова…», или Верховенский-старший из «Бесов», или, наконец, Карамазов-отец – эти типы встречаются гораздо чаще, чем кажется. Но Достоевский столь детально и глубоко показывает развитие их патологии, «историю болезни», что их обыденная монструозность перерастает в процессе чтения в фантастическую жестокость, изощрённость и гадливость.
«Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может!» (2, 166) – замечает писатель об одном из своих персонажей. Но за этим кратким и по-святоотечески афористическим выражением мы сразу определяем человека во всей его душевной полноте. Жизнь многих его персонажей – настоящая болезнь, и Достоевский в этом смысле прекрасный диагност. Он столь глубоко проникает в душу своего героя, что позволяет обнаружить самые давние события, повлиявшие на прогрессирование болезни.
В «Униженных и оскорблённых» у Достоевского есть очень яркий персонаж – Валковский. Его можно было бы назвать бессовестным человеком, но бессовестные люди, как правило, отлично знают, как следует поступать правильно, но делают всё для собственной выгоды, искусно прикрываясь различными оправданиями. Одним словом, такие люди стремятся, что называется, сохранить лицо, хорошую мину при плохой игре. Валковский не такой. Он чрезвычайно последовательный и честный – перед самим собой и людьми, которым он готов открыться. Его позицию можно назвать циничной, эгоистичной, потребительской, но вот в честности в отношении себя ему не откажешь.
 Мировоззрение Валковского едва ли не полностью выражено в следующем его откровенном признании: «Всё для меня, и весь мир для меня создан… я ещё верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без неё даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться… вы поэт, а я простой человек и потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесёт какую-нибудь пользу… в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело – тем более тут эгоизма. Люби самого себя – вот одно правило, которое я признаю. Жизнь – коммерческая сделка; даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему, – вот моя нравственность, если уж вам её непременно нужно, хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по ним никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов… В жизни так много ещё хорошего. Я люблю значение, чин, отель, огромную ставку в карты (ужасно люблю карты). Но главное, главное – женщины… и женщины во всех видах; я даже люблю потаённый, тёмный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для разнообразия…» (4, 256 – 257).
Мировоззрение Валковского едва ли не полностью выражено в следующем его откровенном признании: «Всё для меня, и весь мир для меня создан… я ещё верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без неё даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться… вы поэт, а я простой человек и потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесёт какую-нибудь пользу… в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело – тем более тут эгоизма. Люби самого себя – вот одно правило, которое я признаю. Жизнь – коммерческая сделка; даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему, – вот моя нравственность, если уж вам её непременно нужно, хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по ним никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов… В жизни так много ещё хорошего. Я люблю значение, чин, отель, огромную ставку в карты (ужасно люблю карты). Но главное, главное – женщины… и женщины во всех видах; я даже люблю потаённый, тёмный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для разнообразия…» (4, 256 – 257).
В поле зрения Фёдора Михайловича попадает, конечно же, не только страдание бремени человеческого, но и награда за терпение в мире, где пасть гораздо легче, чем пройти жизнь чистым. «Любовь! – да ведь это всё, да ведь это алмаз, девичье сокровище, любовь-то!» (2, 478). Достоевский известен афоризмами вроде «красота спасёт мир» или «красота – это страшная сила», но у него есть много иных глубоких наблюдений, например: «Смирение любовное – страшная сила» (11, 376).
 Девушки, хотите секрет женской молодости от Достоевского? Согласен, звучит несколько странно. Но ознакомьтесь с портретом мамы Родиона Раскольникова: «Несмотря на то, что Пульхерии Александровне было уже сорок три года, лицо её всё ещё сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный, чистый жар сердца до старости. Скажем в скобках, что сохранить всё это есть единственное средство не потерять красоты своей даже в старости» (5, 198). Честный и чистый жар сердца – вот секрет женской красоты от Фёдора Михайловича.
Девушки, хотите секрет женской молодости от Достоевского? Согласен, звучит несколько странно. Но ознакомьтесь с портретом мамы Родиона Раскольникова: «Несмотря на то, что Пульхерии Александровне было уже сорок три года, лицо её всё ещё сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный, чистый жар сердца до старости. Скажем в скобках, что сохранить всё это есть единственное средство не потерять красоты своей даже в старости» (5, 198). Честный и чистый жар сердца – вот секрет женской красоты от Фёдора Михайловича.
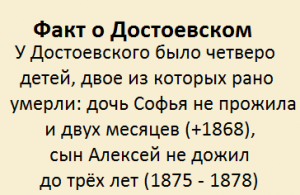 Следующее наблюдение может пригодиться всем нам, живущим в годы экономических потрясений и, говоря шире, эпоху потребительства. Хотя, должно быть, во все времена имело место потребительство как стиль жизни. Но наблюдение Достоевского поразительно точно отражает то, что происходит с человеком или обществом, которое ставит во главу угла материальное благополучие в ущерб нематериальному: «И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше» (11, 370).
Следующее наблюдение может пригодиться всем нам, живущим в годы экономических потрясений и, говоря шире, эпоху потребительства. Хотя, должно быть, во все времена имело место потребительство как стиль жизни. Но наблюдение Достоевского поразительно точно отражает то, что происходит с человеком или обществом, которое ставит во главу угла материальное благополучие в ущерб нематериальному: «И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше» (11, 370).
Кому как не Достоевскому знать, как тяжело испытывать постоянную угнетающую нужду. И всё же радость он ставит выше вещей. Об этом прекрасно сказано в «Подростке» в рассуждении о малом и большом человеке: «Малый человек и нуждается, хлебца нет, ребяток сохранить нечем, на вострой соломке спит, а всё в нём сердце весёлое лёгкое; и грешит и грубит, а всё сердце лёгкое. А большой человек опивается, объедается, на золотой куче сидит, а всё в сердце у него одна тоска» (10, 184). Оно и вернее: на пороге смерти я бы предпочёл радоваться счастливой любви, чем особнякам. Последние, конечно, не повредят, но радость от человеческой взаимности, от любви – несравнимо выше.